Просмотров:
1487
Тема дня
Звезда и смерть Тиграна Кеосаяна

Пропагандистка М. Симоньян сообщила, что ее супруг Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому.
Просмотров:
2966
Тема недели
Новоголосования. Лучший комментатор

Некоторые считают, что "мнение - самый дешевый в мире товар". Однако есть и те, что уверяют, будто "словом можно и убить, и воскресить".
Просмотров:
6797
Тема месяца
Карточный домик "справедливости"

В России инициировано возвращение "карточной системы" распределения продуктов питания
Кит Келлог обещает "Спасти рядового УкРайна"
Новокузнецк получил семь субсидируемых авиарейсов
В Новокузнецке задержали похитителей интернет-кабелей
Саломе Зурабишвили заявила на брифинге, что она остаётся президентом Грузии
ЕДДС по г. Новокузнецку разослала "штормовое предупреждение"
Школа в квартале 45-46 Новокузнецка "превратилась в долгострой"
Золотодобытчиков Кузбасса наказали за вырубку леса
В Кузбассе младенец погиб предположительно из-за врачебной ошибки
Рубль медленно, но уверенно дешевеет
Утвержден календарь рабочих и праздничных дней в 2025 году
Обсуждения
Нью-Мехико наблюдается множественное свечение в небе. Предположительно НЛО.
Рубрики
Опросы на КузПресс
Устраивает вас календарь-2025 по соотношению рабочих и нерабочих дней?
Кто из комментаторов портала КузПресс в 2024 году был худшим?
кто из авторов КузПресса лучший?
...
Устраивает вас календарь-2025 по соотношению рабочих и нерабочих дней?
Кто из комментаторов портала КузПресс в 2024 году был худшим?
кто из авторов КузПресса лучший?
...

Послесловие к юбилею
Редактор "Горького" Константин Мильчин рассказывает о своих взаимоотношениях с мифом о Солженицыне.
1. "Стоит начать с небольшого предупреждения. Это статья не филолога и не литературоведа. Это даже не статья книжного критика и не совсем статья читателя. Это текст о солженицынском мифе и его жизни в голове одного отдельно взятого персонажа. Меня.2. Я родился в семье, которая придерживалась умеренно диссидентских взглядов. То есть дальше чтения умеренно запрещенной литературы и разговоров на кухне дело не заходило. Я рос в мире битеизма: на небе было два добрых божества, великий академик Сахаров и великий писатель Солженицын, в чем их величие — пятилетний мальчик вряд ли догадывался, но и сомневаться не пытался. Один бог был в ссылке, другой жил далеко в Америке. Сахаров был богом условных западников, Солженицын — условных почвенников, мы поклонялись больше Сахарову, но вторым божеством тоже восхищались и возносили ему интеллектуальный фимиам. Уже в более взрослом возрасте, читая рассказы и повести Довлатова, я обнаружил в них схожую религиозную доктрину.
3. Год примерно 1988-й; «Радио Свобода» уже не глушат, и происходит мой первый опыт столкновения с текстами Солженицына — я слушаю аудиоверсию «Одного дня Ивана Денисовича». Как я понимаю теперь, это была запись, сделанная «Би-Би-Си» в 1982 году. Мягкий, бархатный голос, почти никаких эмоций от рассказываемого. Для восьмилетнего все услышанное представляло один сплошной непрекращающийся ужас. Это было, с одной стороны, страшно, а с другой — лучше подталкивало к главной нехитрой мысли текста: вот этот совершенно чудовищный для меня день, он — с точки зрения автора и героя — очень хороший. В нем же сплошные радости. Не заболел. Ножовка. Баланда. Рыбьи кости. Хлеб. Отличный же день. Каков же тогда плохой день? И еще: в рассказе есть нечто иррациональное, мистическое, антинаучное, не фиксируемое научной аппаратурой филологов. Это мощь рассказчика, нечеловеческая сила, стоящая за каждой строчкой текста.
 Александр Солженицын читает нобелевскую речь. Стокгольм, 10 октября 1974 года
Александр Солженицын читает нобелевскую речь. Стокгольм, 10 октября 1974 годаФото: JAN COLLSIÖÖ / PRESSENS BILD AB
4. Тот же 1988 год. Та же «Свобода»: Владимир Войнович читает «Москву 2042». Писатель Карцев, живущий в Германии диссидент, на машине времени отправляется в будущее, там СССР превратился в КНДР худшего образца, но скоро этот мир рухнет, потому что проснется от спячки в эмиграции великий русский писатель Сим Симыч Карнавалов, на белом коне въедет в Москву, отменит прогресс, восстановит империю и сам станет самодержцем. Кто такой Сим Симыч Карнавалов было совершенно очевидно. Это Он, Второй Бог, ночное, но от того не менее важное светило. «Москва 2042» — это совершенный непрекращающийся восторг. Но мое восхищение текстом Войновича никак не может поколебать расположение Солженицына на небесном своде. Несмотря на весь свой детский максимализм, я был не чужд плюрализма. Но в случае с Войновичем было очевидно: человек бросил вызов самом богу, но божественная сущность Солженицына никак этим смельчаком не подвергается сомнению.
5. Начинается перестройка. Сахаров умирает, Солженицын по-прежнему живет в эмиграции. Он популярен. Он — мессия, он — царь под горой, который ждет своего часа, чтобы вернуться и спасти родину. В 1994 году все ждут Великого Возращения. Кажется, что других тем в газетах и журналах нет: все только и говорят о Нем. Он вернется и все исправит. Условным почвенникам Солженицын кажется мессией, условные либералы либо притихли, либо присоединились к хору восторженно ожидающих. В потоке патоки есть все-таки одна чайная ложка желчи: филолог Григорий Амелин в «Независимой газете», тогда одной из самых влиятельных, пишет статью-пасквиль. «Многотомный до грыжи, с голливудской бородой и начищенной до немыслимого блеска совестью, он является в Россию праздничный, как Первомай, и, как он же, безбожно устаревший». Армия фанатов взрывается ответными памфлетами. Текст сравнивают с доносом. Вот только кому и куда можно доносить на Солженицына в 1994 году? Кто выше его? Одна из отповедей, как сейчас помню, заканчивается вполне предсказуемыми шутками насчет фамилии: «Мели, Амелин!».
6. Меж тем Он действительно возвращается. Начинает с Дальнего Востока, едет через Сибирь в Москву, по дороге в каждом городе к нему приходят на встречу толпы людей. Прямо как Сим Симыч Карнавалов в романе Войновича. И что же будет дальше? Коронация? Восстановление императории? Запрет машин и прочих механизмов? Сейчас возможность прихода к власти властителя дум кажется чем-то невероятным, но попробуем вернуться в 1994 год. Все зыбко и не очень-то понятно. Только что закончилась маленькая гражданская война прямо в центре Москвы, исполнительная власть победила законодательную. Но потом выборы в новый парламент выиграли какие-то совсем странные, далекие от исполнительной власти люди. Но зыбко само государственное устройство. Должности изобретаются под конкретных людей, и когда люди покидают власть, то должности исчезают вместе с ними. Был Геннадий Бурбулис — и была у нас должность Государственного секретаря, как в Америке, только с другим функционалом. Но ушел Бурбулис — и с тех пор нет в России Государственных секретарей. Или вот был у Ельцина некогда очень популярный соратник — Владимир Шумейко. Про него так и шутили тогда (кажется, это был неизбежный и системообразующий в те годы колумнист М. Ю. Соколов), что Шумейко — это и есть его должность. Но это все люди новые, недавние. А тут не просто должность, а живой бог, связь эпох, Нобелевский лауреат, самый известный в мире русский писатель в литературоцентричной стране. Божество приезжает в Москву, выступает в Федеральном Собрании, где все депутаты, сенаторы и министры ему аплодируют. Солженицын получает регулярную телевизионную передачу. Это все атрибуты власти. Кажется, вот-вот он получит и саму власть, настоящую. Она сама, как перезрелый плод, падет к его ногам. Ну или хотя бы пусть Троице-Лыково станет новой Ясной Поляной, и будет у нас два президента, как раньше было два царя. Один в Кремле, другой в Троице-Лыково. Как все это было логично для юного политтехнолога с томиком Войновича в одной руке и «Красным колесом» — в другой. Ну не томиком, конечно, а сшитыми под одну обложку выдранными тетрадками из номеров «Нового мира». Это был пик Его популярности. Но власть Он не взял, даже не потрогал. Дальше популярность покатилась вниз.
 Солженицын обменивается мнением с жительницами острова Попова. Владивосток, 29 мая 1994 года
Солженицын обменивается мнением с жительницами острова Попова. Владивосток, 29 мая 1994 годаФото: YURI FEKLISTOV © SIPA PRESS
7. В 1994 году возвращение Солженицына на родину бурно обсуждалось в школе. Мои друзья были в восторге. Я источал желчь и скепсис. Чтобы это не выглядело похвальбой, сразу оговорюсь, что позерства и бессмысленного нонконформизма тут было больше, чем здравой логики. Пройдет 2,5 года, и в 1997 мы будем проходить тексты живого классика на уроке литературы. Ситуация перевернется на 180 градусов. Друзья будут источать яд, а я буду что-то лепетать про великого современника. Про ту самую иррациональную мощь, которая скрывается за текстами. И снова позерства здесь будет больше, но что-то же произошло за эти 2,5 года. Всеобщий кумир, тот, кому рукоплескали толпы, тот, от кого ждали и от которого ждали чего-то, что даже толком сформулировать не могли, превратился в странного человека из телевизора.
8. А потом я вырос и стал книжным журналистом. Это был суровый взрослый мир. Здесь Божество именовали по-амикошонски — Солж. Мы же тут работаем, при делах, на полное произнесение длинной фамилии нет времени. И я стал сам так говорить, а затем обнаглел настолько, что написал рецензию на второй том книги «Двести лет вместе». И что-то в этой книге было не так. Не содержание, не идеология, черт с ними. Не так было то, что поначалу там вроде бы был обычный Солженицын, с его отчаянной борьбой с русским языком и бесконечными неологизмами — например, словом «большевицкий». Но вот незадача: все эти словесные упражнения и пресловутая нечеловеческая мощь сперва были, а потом сходили на нет к середине книги, чтобы затем полностью исчезнуть. И это наводило на печальную мысль о том, что вторая часть писалась как минимум с чьей-то помощью.
9. Когда Солженицын умер, я ждал, что станцию метро «Троице-Лыково» (которой как тогда не было, так нет и сейчас, но есть ровный участок пути, где теоретически можно при большом желании построить платформы) назовут «Солженицынской», но тогда ограничились улицей на Таганке. Впрочем, странности его посмертной судьбы заключаются не в этом. А в том, что все теперь вверх дном и все поменялось местами. Он всю жизнь воевал с государством, теперь государство лелеет его память, ставит ему памятники и называет в его честь улицы. Книги о нем пишут представители либерального лагеря, а нынешнее консервативное крыло его недолюбливает. С другой стороны, что ему — победившему смерть и перебодавшему дуб — наши жалкие разборки и оценки".
15.12.2018
Просмотров: 2428
|
Комментариев: 15
bragjun
15.12.2018 11:22
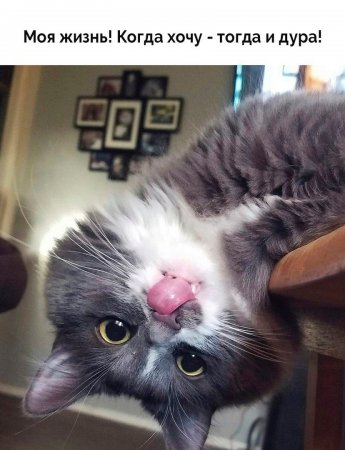
swogman
15.12.2018 11:23
К 100-летию со дня рождения писателя
Борис Парамонов: Столетие Солженицына и юбилейная атмосфера, понятно создавшаяся вокруг этого события, отнюдь не означает какого-либо благорастворения воздухов и всеобщего примирения вокруг имени писателя. Создалось парадоксальное положение: Солженицын – вроде бы классик, коли его в школе проходят, малым детям подносят – и в то же время шумы и скандалы вокруг него не стихают. Ему ставят памятники – и тут же их вандализируют, а где-то и чучело сжигали. Тогда, как известно – и признается с долей иронического смирения, – что классиками приходит пора называть тех людей, вокруг которых давно и повсеместно стихла борьба, которые не вызывают у читателей и почитателей каких-либо контроверз. И как раз тогда их выносят в школьные программы для детского чтения как нейтральный материал, общепризнанный и не оспариваемый, как таблица умножения.
Сейчас не так – с Солженицыным не так. Слов нет, власти его признали, и юбилей его вспомнили, и объявили 2018 год годом Солженицына. Но даже официальное признание, столь решающее в любых, кажется, российских раскладах, не закрыло вопрос о Солженицыне. По-прежнему существуют очаги недовольства. Их по меньшей мере два. Один – это ненависть к Солженицыну со стороны реликтовых советских лоялистов, не могущих ему простить, что он, по их твердому убеждению, уничтожил советскую власть и социалистическое государство или по крайней мере способствовал этому больше всякого другого. И второй очаг недовольства, прямо противоположный, – либералы-западники: о Советском Союзе им жалеть не приходится, но они до сих пор подозревают Солженицына во враждебности к либерально-западническим программам: Солженицын – славянофил, ненавистник интеллигенции, противник демократии, тайный монархист и едва ли не открытый антисемит: таков идеологический расклад на этом втором полюсе.
Нетрудно увидеть, что все эти обстоятельства говорят не только и не столько о Солженицыне, не только его сложную фигуру характеризуют – но прежде всего современное состояние российского общества, говорят о нерешенности каких-то более общих вопросов скорее, чем вопрос о писателе Солженицыне. Сама Россия повисла в некоем вакууме, не в силах выбрать определенный путь дальнейшего согласного развития. Сама Россия находится в новом застое, в ситуации, когда нет решительных "да" или "нет". Поэтому и наблюдается такой разнобой: то ли в России демократия, то ли новый авторитаризм, то ли Советский Союз кончился, то ли собирается возрождаться, то ли Октябрьская революция – это хорошо, то ли плохо, а власти, почти замолчав ее столетие, так и не решаются вынести с Красной площади ее труп, то Крым наш, то еще чей-то. В ряду этих вопросов – и вопрос о Солженицыне: включение его в школьные программы важнее ли того, что разоблаченные им ЧКГБ по-прежнему существуют в качестве главного жупела постсоветской жизни?
Это пример – и не единственный, а один из многих – какого-то дурного сосуществования в нынешней российской жизни самых не сводимых один к другому элементов. По известной формуле: Россия переворотилась – но явно не хочет или не способна по-новому укладываться. До классиков ли тут – когда нет ничего бесспорного? В этой обстановке юбилейное чествование Солженицына приобретает знакомый и надоевший вкус официальной казенщины, на верхах согласованного "мероприятия", в реальности, "на низах" не вызывающего никакого общественного согласия и единения.
Но вот это невольное – и такое необходимое – включение вопроса о Солженицыне в куда более широкий круг нынешних русских вопрошаний ставит еще один вопрос: а только ли, просто ли Солженицын – писатель? Слишком много внелитературных вопросов он вызывает. Впрочем, ответ готов, он извлекается из всей прошедшей истории русской классики: настоящий писатель, писатель-классик – в России всегда не только писатель, но и некий духовный вождь, к которому идут не только за интересным чтением, но и за духовно-жизненным уроком. Или по крайней мере сам русский классик видит себя в таком сверхлитературном измерении. К Гоголю, например, за уроками не пошли, но сам-то он себя хотел учителем видеть. А о Толстом и Достоевском сомнений никаких не было, да отчасти и сегодня нет (Достоевский точно не потерял ореола духовного учителя).
То же относится и к Солженицыну – и если не сейчас, то во время его громких дебютов он несомненно воспринимался не только писателем, но и определенным знаменем. Сам Солженицын однажды сказал: писатель и всегда был в России вторым правительством. И это вопрос не только о писателе или правительстве, но и о самой России. Так уж складывалась ее судьба, что литература была в ней не просто литературой, но и университетом, и парламентом, и церковью. И конечно, это было не только от богатства литературы, а от бедности, несовершенства, неготовности самой жизни решать те вопросы, которые поневоле выносились на суд авторитетных писателей, писателей-учителей, писателей-пророков.
Случай Солженицына тем особенно интересен, что эта ситуация – необходимость для писателя нести дополнительную духовную нагрузку? – определяюще повлияла не только на его общественный статус, но и на самый характер его творчества. Она создала самый жанр солженицынского писательства. Пафос его литературы – правда, задача писателя – говорить правду. Но какую правду вменялось говорить литературе в Советском Союзе? Да любую, вплоть до фактической информации, которая ведь тоже зажималась, когда нельзя было открыто сообщить даже о таких чисто природных явлениях, как наводнения или землетрясения, заведомо оставляя в стороне техногенные катастрофы, допустим, аварии самолетов.
И писатель, взявшийся говорить правду, всю правду, ничего кроме правды, тем самым неизбежно выходил за рамки собственно литературы, даже самой что ни на есть реалистической. Это было как в солженицынском лагере из "Ивана Денисовича": скажешь, что на воле спичек нет, – тебе новый срок паяют. Вот это и есть коренная причина появления солженицынского жанра: художественно-документального. Он в его стремлении к правде должен был не просто создавать реалистические характеры и положения, но и говорить вот об этих самых "спичках" – да и о куда важнейших жизненных реалиях. И высшее свое творение "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицын называет "опытом художественного исследования", в каковом исследовании, в необходимости такого исследования и нужно видеть новую писательскую установку.
Старый художественный вопрос о материале и стиле Солженицын был вынужден решать с упором и эмфазой на оба эти элемента: материал у него никак не менее важен, чем стиль. Потому что материал скрывался, цензурировался, и едва ли не важнейшей писательской задачей становилось его открыть и донести. То есть писательство Солженицына было и оставалось более чем литературой – это было некое интегральное вскрытие всех пластов советской жизни.
И можно сказать, преувеличивая лишь в самую необходимую меру, что чисто художественных вещей у Солженицына не было – кроме одной, самой первой, появившейся в печати, и самой, как едва ли не все считают, лучшей: "Один день Ивана Денисовича". Потому что как раз в жанре своем это была именно художественная литература, тотально организованный эстетический продукт. Ее жизненно-бытовая основа – впервые заявленная, адекватно представленная и тем самым уже небывало сенсационная – тем не менее не выпирала, не претендовала на первое место: это было всецело художество, до конца организованное словесное построение – тем самым как бы явившее даже и не прозу уже, а поэзию – чисто словесное искусство. Ведь только в стихах мы имеем целостно организованную речь, только в стихах нет (не должно быть) лишних слов, которых из песни не выкинешь. "Иван Денисович" был такой песней. Его полная и в полноте этой сама приходящая на ум аналогия – "Горе от ума", разошедшееся на пословицы. Так и солженицынскую повесть можно на пословицы разобрать.
И ни в одном из других произведений Солженицына мы не найдем такой полноты художественного построения, такой чистоты жанра. Что ни взять из прочих вещей Солженицына – везде видна индивидуально-биографическая основа или прямая установка на документальность. Романы "Раковый корпус" и "В круге первом" – едва прикрытая автобиография, в которой не только узнается автор в Костоглотове и Нержине, но и другие прототипы легко определяются из жизненных обстоятельств Солженицына.
Столь же автобиографичен рассказ "Матренин двор", вплоть до того, что сохранены названия местностей и имена персонажей (разве что фамилия у Матрены Васильевны другая). Или, скажем, герой "Случая на станции Кречетовка" Вася Зотов в плотных заботах военного времени ухитряется читать "Капитал" Маркса – так Солженицын позднее признавался, что сам к этому источнику мудрости тогда же старался припасть. И шарашка, и онкологическая клиника – все это эпизоды авторской жизни. И что пишет Солженицын далее? Исторический роман "Август Четырнадцатого" – и разворачивает "Красное колесо", в котором три четверти текста документальны и главные персонажи – реальные деятели, куда более интересные и куда более хорошо написанные, чем вымышленные романные персонажи. А главная и важнейшая работа Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" – так вообще в целом документальное повествование, цифры и факты, попросту говоря: но какие цифры! какие факты! Вот тут и сказывается новое, небывалое ранее мастерство Солженицына: построить убойный, убийственный, миросокрушающий текст на основе, на прямой демонстрации самой что ни на есть правды – той правды, что десятилетиями скрывалась неправедным режимом.
Эстетический эффект оказался прямо производным от сообщаемых – скрывавшихся! – фактов, от самой что ни на есть бытовой правды. Бытописательство становится сенсацией, жанром ужаса и романом тайн – потому что прорывает заговор зловещего молчания. Эстетический резонанс возникает от самой речи, от внятно произнесенных слов – там, где годами, едва ли не веками господствовало глухое молчание. Можно даже сказать, что эффекту "Архипелага" способствовала атмосфера подполья, запрета, насильственно наложенной немоты – именно на таком фоне страшнее, апокалиптичнее взрыв. Тут феномен контраста первоначально значим: все молчат, один заговорил – и тем громче, тем резонанснее. Предельно эстетическим становится сам факт и акт речи. Обязательным и сильнейшим условием эстетического воздействия оказывается подпольность – и сочинения, и самого чтения, опасность прикосновения, раскрыва крамольных страниц. Правда приобретает качество эстетического явления, когда она предстает монологом героической личности.
И тут значима еще одна история из солженицынского наследия: его первая мемуарная книга "Бодался теленок с дубом". Известно, что эта книга не понравилась многим, в том числе достойным людям (а не только дежурным злопыхателям). Ее посчитали "нескромной", образ автора-рассказчика излишне приподнятым, поставленным на котурны. Но в этой вещи сказался ярко и поучительно немаловажный художественный, эстетический сюжет – роман и его герой. Почему в двадцатом веке заговорили о конце романа, а однажды и самого Солженицына пригласили на некое международное собрание, обсуждавшее эту тему (он не поехал)? Тут есть сюжет и тема, и лучше всех сказал об этом еще в 1927 году Осип Мандельштам в статье, так и названной "Конец романа". Роман кончается – или уже кончился – потому, что исчез герой: то есть человек, определяющий события романного действия. А это потому, что герой, то есть деятельный человек, исчез из жизни в нашу эпоху колоссальных массовых действий вроде мировых войн или революций. Человек сейчас ничего не определяет, не творит; большее, что он может, – это приспособиться к событиям и ситуациям. Сейчас для литературы время не для романов, а для хроник и четьих миней, писал Мандельштам. И вот Солженицын это опровергает – причем не тем, что пишет романы (скажем, "Раковый корпус" и "В круге первом"), а тем, что восстанавливает образ героя – и не романного, а реального, жизненного, в жизни действующего, и отнюдь не приспосабливающегося. Этот герой – сам автор вот этих мемуаров, вот этого "Теленка". Вернув героя в жизни, Солженицын тем самым ввел его в литературу – и восстановил жанр, заново его породил, когда героем становится сам писатель, вот эту книгу пишущий, которую вы в руках держите.
Как в таких обстоятельствах было не отождествить правду жизни и правду искусства? Такому человеку, который свою собственную жизнь преобразил в высокий художественный жанр? Да и не художественный уже, а житийный, агиографический. Во многих своих текстах Солженицын звал свой народ к раскаянию и покаянию – никто как будто этим призывам не внял. И тогда он сам покаялся за всех – написанием "Архипелага". Он, можно сказать, взял на себя грехи мира, русского мира – и явил собой фигуру несомненно христологического типа и масштаба.
Но Солженицын и хронику написал, и четьи минеи – коллективную агиографию, житие мучеников – "Архипелаг ГУЛАГ". Завет Мандельштама он выполнил и перевыполнил – это если говорить только о литературных жанрах.
Никаким не то что пером – топором, кувалдой, тринитротолуолом Солженицына из русской жизни не выведешь, как бы ни изгалялись фантомы вчерашнего дня. Но он ведь и на мировую историю повлиял: выбил марксистско-коммунистический камень из-под западных идейных фундаментов. Марксистский социализм мертв сегодня на Западе. При этом наблюдался парадокс: на Западе и до Солженицына не было нехватки информации относительно природы советского режима, его тайны давно и не раз делались явными. Можно назвать книги Солоневича, Марголина, книгу и громкий процесс Кравченко. На Западе ждали чего-то еще. И дождались доклада Хрущева на ХХ съезде. Конечно, это был сильный удар – а за этими словами последовали и дела: подавление Венгерского восстания в 1956-м, разгром Пражской весны 68-го. Но окончательный удар нанес всё-таки Солженицын своим "Архипелагом". И ведь понятно почему: его книга была не только документом – в ряду других, уже бывших документах, а смертельным выстрелом в лоб. И причина такого тотализующего действия – громадный художественный эффект, колоссальная эстетическая сила этого, по-видимому, внеэстетического заряда. Это извечное действие искусства: не только что, но и как.
А как? Ну вот Солженицын пишет, к примеру, что не ко всем узникам можно было применить страшную антисоветскую статью 58, не все ее охватные подпункты. Если у человека нет скота, так его и не обвинишь в скотоложстве, горько усмехается Солженицын. Но вот на всех подходящая 58-10: антисоветская агитация. И далее такой текст:
Диктор: "Но 10-й пункт 58-й статьи – общедоступен. Он доступен глубоким старухам и двенадцатилетним школьникам. Он доступен женатым и холостым, беременным и невинным, спортсменам и калекам, пьяным и трезвым, зрячим и слепым, имеющим собственные автомобили и просящим подаяние. Заработать 10-й пункт можно зимой с таким же успехом, как и летом, в будний день, как и в воскресенье, рано утром и поздно вечером, на работе и дома, в лестничной клетке, на станции метро, в дремучем лесу, в театральном антракте и во время солнечного затмения".
Борис Парамонов: Или вот Солженицын во всей силе своего писательства, мастерского своего русского языка:
Диктор: "Ax, доброе русское слово – острог – и крепкое-то какое! И сколочено как! В нем, кажется, – сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И все тут стянуто в этих шести звуках – и строгость, и острога, и острота (ежовая острота, когда иглами в морду, когда мерзлой роже мятель в глаза, острота затесанных кольев предзонника, и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает, – а рог? Да рог прямо торчит. выпирает! прямо в нас и наставлен".
Борис Парамонов: Да, одно дело, когда в судебном заседании обвинительное заключение читает секретарь суда, да еще гугнивый, – и совсем другое, когда свидетелем обвинения выступает пророк Иеремия. Не захочешь – так выслушаешь.
Можно привести один, но многого стоящий пример правильного суждения о "неправильном" Солженицыне: это отзывы о его публицистике Лидии Корнеевны Чуковской. Со многим не соглашаешься, пишет она, – но нельзя не увидеть словесной мощи его построений, фраз, синтаксиса, словаря. Солженицын, что бы он ни писал, остается могучим писателем. Вот камертон к Солженицыну.
Моральный пафос, религиозная проповедь, огненные глаголы – а не какая-то нейтрализованная судейскими бумагами "информация" – вот что потрясло мир, вот что обрушило коммунистический зиккурат. И это воздействие Солженицына теперь уже невозможно нейтрализовать никакими полупризнаниями и включениями в новую казенную обойму. Этой тенью им больше не прикрыться – да и тени той нет, он давно всех вывел на солнце. Сам стал этим Солнцем.
Ошибки и слабости, неточности, несбывшиеся прогнозы Солженицына? Такие есть. Не будем говорить о его недоверии демократии, его критике Запада, его излишнем полагании на церковь, вообще о заметной идеализации прежней досоветской жизни. Всё это есть, и отрицать невозможно. Но можно и нужно понять, откуда это идет, в каком опыте коренится. Тут двух мнений быть не может: это травма русского Февраля, пережитая и не изжитая Солженицыным и как некий сильный магнит, отклоняющий направляющие линии его суждений.
Диктор: "Российская революция (с её последствиями) оказалась событием не российского масштаба, но открыла собою всю историю мiра XX века – как французская открыла XIX век Европы, – смоделировала и подтолкнула всё существенное, что потом везде произойдёт. В нашей незрелой и даже несостоявшейся февральской демократии пророчески проказалась вся близкая слабость демократий процветающих – их ослеплённая безумная попятность перед крайними видами социализма, их неумелая беззащитность против террора. Теперь мы видим, что весь XX век есть растянутая на мiр та же революция".
Борис Парамонов: Вот где основная, да, пожалуй, и единственная ошибка Солженицына – в этой не до конца критичной экстраполяции опыта русского Февраля на всю толщу мировой истории 20-го века. Не будем говорить о мире вне России – у него собственная судьба и собственные детерминанты этой судьбы. Но даже и в России постсоветский процесс не пошел по линии февральской анархии: был разгул – но бандитских элементов, а не массы народа, как это показал в Узлах "Март" и "Апрель Семнадцатого" Солженицын в своем "Красном колесе". Можно с известным основанием взять на себя смелость сказать, что русский народ 1991 года был не тем, что в 1917-м. Анархического распада не случилось. Если уж обвинять, то скорее за излишнюю осторожность и нерешительность то ли новые массы, то ли их новых вождей.
Да и сам Солженицын признал это. Отсюда его лояльность к новой российской власти и готовность принять от нее награду – то, в чем он отказал Ельцину.
Но не стоит разговор о великом русском человеке кончать на такой протокольно-официозной ноте. Солженицыну другая награда по размеру и масштабу – имя русского классика и вечная любовь читающей России.
https://www.svoboda.org/a/29650752.html
Седьмой спутник
15.12.2018 12:01
Где-то задевает, будит несогласие, но всё равно хорошо.
swogman
15.12.2018 18:39
Седьмой спутник: Ах, умница Парамонов!
Где-то задевает, будит несогласие, но всё равно хорошо.
Где-то задевает, будит несогласие, но всё равно хорошо.
Ну тогда вот это от Парамонова :
Великолепный скандалист. Борис Парамонов – о Владимире Войновиче
28 Июль 2018
Борис Парамонов
Владимир Войнович как писатель интересен тем, что за короткое время своей советской литературной жизни, чуть больше десяти лет, он резко менялся, обретая все новые черты. Начинал он в самодеятельных литературных кружках, причем как поэт, и в этом качестве вызывал неоспоримое доверие литературного начальства, которое его, можно сказать, выдвигало. Это в советской литературной жизни было большое преимущество – выйти из рабочих, как плотник и авиамеханик Войнович, таких чуть ли не за уши тянули наверх.
РС в Телеграме
РС в Вайбере
РС в мобильном
И начал Войнович с большого, как раз советского успеха: его песня о космонавтах стала почти что официальным их гимном. "На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы". На телевизионных встречах с космонавтами он непременно присутствовал вместе с Гагариным и Титовым. И вот тут Войнович в первый раз удивил: вместо того, чтобы стать советским поэтом-песенником и в этом качестве стяжать дальнейшие успехи, он стал писать прозу, причем первая его повесть была даже не из заводской жизни, а сельской, как было в первой его напечатанной вещи – повести "Мы здесь живем". Затем последовали "Хочу быть честным", "Два товарища", и среди этих текстов – замечательный рассказ "Расстояние в полкилометра", вещь, можно сказать, философическая, в тонах экзистенциализма, хотя повествовавшая опять же о деревенских людях.
Замечательных писателей в России много, но вот прирожденных и стойких демократов драматически не хватает
Этого Войновича уже никто бы не назвал писателем рабочей темы, это было уже серьезно, очень серьезно. И приобретя такой авторитет – одного из лучших молодых писателей оттепельной поры, Войнович и на этом не остановился: он стал правозащитником, оппонентом власти. При этом не только выступал против всякого рода советских беззаконий, но и писать стал вещи по тем меркам несоветские, иногда же и прямо антисоветские, как документальная повесть "Иванькиада". Его стали преследовать не только за правозащитную деятельность, но и за писательство, вершиной которого стал изданный на Западе роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" – это уже несомненная новая русская классика. Рабочий паренек и советский писатель Войнович стал замечательным сатириком, а сатира тогда могла быть только антисоветской.
Изгнанный из Советского Союза, Войнович с тем большим упорством продолжал эту линию, написал сатирические романы "Монументальная пропаганда", "Москва 2042", и снова в ряду этих новых, можно сказать, монументальных вещей выделился небольшой рассказ "Путем взаимной переписки" – опять же экзистенциального звучания сочинение. Не злодеяния власти, а исковерканный всем строем советской жизни простой человек – вот что было поистине новым в этой литературе. Ну а Чонкин предстал бесспорным русским архетипом, этот образ навсегда останется в русской литературе и в русском духовном обиходе.
Место в русской литературе Войнович занял прочное – он новый ее классик, оспаривать его в этом качестве невозможно. И, как ожидаемо от классика, он пишет о своей жизни замечательный текст "Автобиография".
Но не только литературой своей Войнович взошел в русский духовный строй, не только этим важен для России. Он явил столь необходимый для России новый тип человека – человека демократического сознания и характера. Причем такой характер даже важнее для России, чем те или иные литературные достижения. Замечательных писателей в России много, но вот прирожденных и стойких демократов драматически не хватает. А в таком характере важнейшее – неуживчивость, способность спорить, не поклоняться авторитетам, настаивать на своем. Скажем даже больше – готовность к скандалу. Таким великолепным скандалистом был Владимир Войнович – поистине новый русский среди не в меру смирных русских людей.
Борис Парамонов – историк и публицист
Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции.
https://www.svoboda.org/a/29395521.html
bragjun
15.12.2018 15:40
"Солженицын, что бы он ни писал, остается могучим писателем. Вот камертон к Солженицыну".
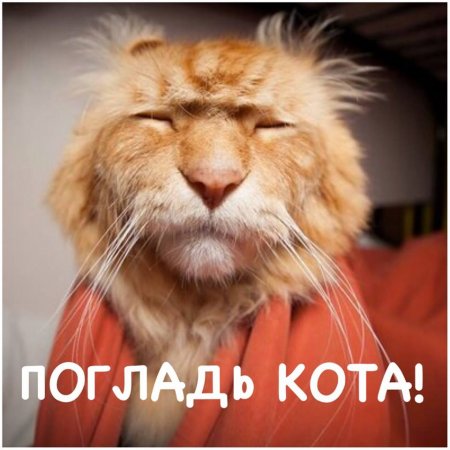
сам я не местный
15.12.2018 11:49
нация фуфаек... одни папуасы- вечны.
swogman
15.12.2018 12:44
сам я не местный: Маннергейму таблички вешаете, в солже ницина верите..
нация фуфаек... одни папуасы- вечны.
нация фуфаек... одни папуасы- вечны.
Хрен его знает каким боком сюда финский маршал, но насчет фуфаек согласен. Послушай финскую песню той войны:
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI
может дойдет.
сам я не местный
15.12.2018 13:57
swogman:
Хрен его знает каким боком сюда финский маршал, но насчет фуфаек согласен. Послушай финскую песню той войны:
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI
может дойдет.
сам я не местный: Маннергейму таблички вешаете, в солже ницина верите..
нация фуфаек... одни папуасы- вечны.
нация фуфаек... одни папуасы- вечны.
Хрен его знает каким боком сюда финский маршал, но насчет фуфаек согласен. Послушай финскую песню той войны:
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI
может дойдет.
У меня дедушка на ней воевал.
swogman
15.12.2018 17:08
сам я не местный:
У меня дедушка на ней воевал.
У меня дедушка на ней воевал.
Про не что нибудь рассказывал? У меня один дед погиб в начале войны, Другой, командир минометной роты, вернулся с нее алкоголиком, никогда не рассказывал про войну, даже по пьяне. Мне довелось работать с бывшими фронтовиками, трезвые ни когда про войну разговоры не вели.
Седьмой спутник
15.12.2018 12:04
Вроде ясная ссылка дана - https://gorky.media/context/moj-solzh/
сам я не местный
15.12.2018 14:00
Седьмой спутник: С хрена ли только исходная информация - какой-то "медицинский центр"?
Вроде ясная ссылка дана - https://gorky.media/context/moj-solzh/
Вроде ясная ссылка дана - https://gorky.media/context/moj-solzh/
Васёк, да у вас с германычем одна ссылка - дойче казахен нихт капитулирен.
сам я не местный
15.12.2018 14:01
сам я не местный:
Васёк, да у вас с германычем одна ссылка - дойче казахен нихт капитулирен.
Седьмой спутник: С хрена ли только исходная информация - какой-то "медицинский центр"?
Вроде ясная ссылка дана - https://gorky.media/context/moj-solzh/
Вроде ясная ссылка дана - https://gorky.media/context/moj-solzh/
Васёк, да у вас с германычем одна ссылка - дойче казахен нихт капитулирен.
Пардон, Рузвельт Амманыч, на связи...
swogman
15.12.2018 20:21
bezdomnyyy_ivan: Мильчин!!! Ну что Вы ковыряетесь в этом застарелом дерьме?!!
Ваня иди ковыряйся в дерьме свежем.
Период голосования за комментарии завершен
Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.
Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь




